Загадка малых масс нейтрино
На сайте "Троицкий Вариант - Наука" 28.07.2020 г. опубликовано интервью Яна Махонина с профессором Самоилом Михелевичем Биленьким.
Как изучение нейтрино поможет физикам выйти за пределы Стандартной модели? Почему вначале ученые не верили, что нейтрино обладает массой? Как Бруно Понтекорво пришел к идее нейтринных осцилляций? Как возник и развивался Объединенный институт ядерных исследований? Об этом в интервью Яну Махонину рассказывает профессор Самоил Михелевич Биленький, советник при дирекции Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. В этом году ему исполнилось 92 года, но он сохраняет бодрость духа и ясность ума.

Расширение Стандартной модели
— На ваш взгляд, каковы перспективы развития физики за пределами Стандартной модели?
— На самом деле это не модель, а теория. Она основана на надежных принципах, и всё, что она предсказывает, наблюдается на опыте. Самое яркое подтверждение Стандартной модели — открытие бозона Хиггса в 2012 году. Это настолько большое открытие, что буквально на следующий год Хиггс и Энглер получили Нобелевскую премию. Стандартная модель действительно описывает природу. Но уже много лет известно, что у этой модели есть теоретическая проблема — так называемая проблема иерархии. Для того чтобы ее решить, была предложена суперсимметрия. Предполагалось, что суперсимметрию найдут в экспериментах на Большом адронном коллайдере, но пока ничего не находят. Это меняет всю ситуацию. Есть также явления, которые Стандартная модель объяснить не может; одно из таких явлений — темная материя. Мы знаем, что существует материя, которую мы не видим, — о ее существовании мы можем судить по наблюдению гравитационных эффектов. Что она собой представляет, мы не знаем. В Стандартной модели нет «кандидатов», которые могли бы объяснить темную материю. Был замечательный «кандидат» — самая легкая суперсимметричная частица; она должна быть довольно массивной и стабильной, чтобы удовлетворять всем условиям. Однако пока суперсимметрию мы не видим. В настоящее время имеется много других идей насчет того, что собой представляет темная материя. Другая очень серьезная проблема — темная энергия, это 70% плотности Вселенной. Но мы, опять-таки, не знаем, что это такое. Таким образом, есть факты, которые говорят, что Стандартная модель неполна.
— Какую роль в поиске новой теории может сыграть нейтрино?
— Мы думаем, что наблюдение осцилляций нейтрино, которое означает, что у нейтрино есть массы, — это наблюдение эффектов теории Beyond the Standard Model. Мы точно не знаем значения всех масс, но мы знаем, что масса самого тяжелого нейтрино приблизительно равна 0,1 электронвольта (эВ). Существует проблема иерархии масс, и она будет решаться нейтринными экспериментами.
— Может ли Стандартная модель объяснить значение массы нейтрино?
— На самом деле она массы не объясняет. Существует хиггсовский механизм, который генерирует массы таких частиц, как кварки и лептоны. Значение масс Стандартная модель не может предсказать. Нейтринные массы не могут быть генерированы хиггсовским механизмом — должен быть другой механизм. Нужно построить другую теорию, в которой такой механизм существует.
— Есть ли факты, подтверждающие существование нового механизма?
— Eсть три генерации кварков и лептонов. У всех частиц, включая нейтрино, есть массы. Однако мы не очень понимаем, почему электрон такой легкий, а топ-кварк и тау-лептон — такие тяжелые. Мы не очень понимаем структуру масс. Мы не знаем также, почему существует три генерации (а не четыре или одна). Однако мы можем сказать, что массы нейтрино выделяются: они на двенадцать порядков меньше, чем массы кварков и лептонов. Это означает, что должен быть специальный механизм генерации масс нейтрино. Мы должны понять, почему массы нейтрино настолько меньше по сравнению с массами остальных частиц. Это главное, что мы должны объяснить.
— Возможные объяснения уже существуют?
— В принципе, да. Многие из них включают экзотические возможности: дополнительное число степеней свободы, дополнительное измерение пространства (не четыре, а больше), струны и т. д. Однако если оставаться в рамках более обычных теорий, то, с моей точки зрения, самое убедительное физическое объяснение состоит в том, что малые массы нейтрино свидетельствуют о существовании Новой физики вне Стандартной модели, физики частиц с тяжелыми массами. (Эти тяжелые массы задают масштаб Новой физики.) Всё это трудно проверить количественно, но всё-таки мы верим, что тяжелые частицы существуют.
— Допустим, это так. Как в таком случае объясняется масса нейтрино?
— Грубо говоря, масса нейтрино дается произведением стандартной массы (лептонов и кварков) на некий фактор, который представляет собой отношение двух масштабов: того, который определяет Стандартную модель, и того, который определяет Новую физику. Масштаб, который определяет Стандартную модель, известен: 246 гигаэлектронвольт (ГэВ). Это число определяет константа Ферми. А вот новый масштаб нам неизвестен. Но если мы предположим, что он большой, мы сразу понимаем, почему массы нейтрино, которые генерируются новым механизмом, малы по сравнению с массами лептонов и кварков. Мы можем попытаться оценить новый масштаб: порядка 1014 ГэВ.
— Это можно доказать экспериментально?
— Нейтрино — частица, которая не обладает электрическим зарядом. Это позволяет изучать с помощью нейтрино физику очень больших масштабов — как я уже сказал, порядка 1014 ГэВ. Такие энергии недоступны и никогда не будут доступны на Земле, информацию о физике на таких масштабах мы можем получить только из космологии. Наблюдения нейтрино играют здесь большую роль. С моей точки зрения, есть два типа экспериментов, которые позволят проверить эту точку зрения. Один тип — это эксперименты по наблюдению безнейтринного двойного бета-распада ядер (GERDA, NEMO, CUORE и другие). Это исключительно важный процесс. Если он будет наблюден, то это будет означать, что нейтрино являются частицами Майораны.
— Каковы их отличительные свойства?
— Есть два типа частиц, которые мы называем фермионами. Один тип — это дираковские частицы, такие как электроны, мюоны, кварки и другие. Они характеризуются тем, что у каждой частицы есть соответствующая античастица, отличающаяся от частицы знаком электрического заряда: например, электрон и позитрон, кварк и антикварк и так далее. Второй тип фермионов — это частицы Майораны. У этих частиц нет античастиц — частицей Майораны может быть только частица с равным нулю зарядом. Когда частицы обладают электрическим зарядом, работает общая теорема квантовой теории поля: если есть частица с зарядом минус, должна быть античастица с зарядом плюс. Нейтрино — единственная частица, которая может быть частицей Майораны. Фактически, благодаря этому нейтрино позволяют исследовать физику на очень больших масштабах. Это поиск физики на очень малых расстояниях, или на очень больших энергиях.
 Изучение безнейтринного двойного бета-распада в лаборатории CUORE (Cryogenic Underground Observatory for Rare Events), Италия. cuore.lngs.infn.it
Изучение безнейтринного двойного бета-распада в лаборатории CUORE (Cryogenic Underground Observatory for Rare Events), Италия. cuore.lngs.infn.it
— Почему так важен безнейтринный двойной бета-распад?
— Это единственный процесс, изучение которого позволит нам сказать, являются ли нейтрино дираковскими или майорановскими частицами. Если безнейтринный двойной бета-распад будет наблюден, тогда подтвердится, что нейтрино — майорановские частицы. Если нет, ничего сказать нельзя.
— Какую роль в изучении этого процесса играют ученые ОИЯИ?
— Дубна вносит большой вклад в эти эксперименты. В экспериментах GERDA, NEMO и других участвуют ученые из Дубны. Один из главных специалистов по теории этого процесса — словацкий физик Фёдoр Шимковиц, который работает в ОИЯИ. Его вклад в теорию безнейтринного двойного бета-распада трудно переоценить; он вычисляет матричные элементы и многое другое.
— Вы упомянули второй тип важных экспериментов, которые позволят нам продвинуться в понимании природы масс нейтрино. Что он собой представляет?
— Это поиск так называемых стерильных (т. е. невзаимодействующих) нейтрино. Много лет назад на нейтринном детекторе в Лос-Аламосе наблюдались переходы обычных мюонных антинейтрино в стерильные состояния. Мы можем увидеть эффекты стерильных нейтрино, наблюдая осцилляции нейтрино на коротких расстояниях. Есть много экспериментов, в ходе которых стерильные нейтрино как будто наблюдаются, однако во многих экспериментах их не видят. Пришло время окончательно установить, существуют стерильные нейтрино или нет. Один из лучших реакторных экспериментов, который, возможно, позволит нам ответить на этот вопрос, ведут на Калининской АЭС ученые из Дубны — он называется DANSS. К большому сожалению, один из главных участников этого эксперимента Вячеслав Егоров недавно умер. Это большая потеря для Дубны и физики вообще.
Взгляд в прошлое: работа с Бруно Понтекорво
— Расскажите, пожалуйста, как вы отнеслись к предложенной Бруно Понтекорво в 1957 году идее нейтринных осцилляций?
— Тогда я совершенно не интересовался нейтрино. Я начал заниматься физикой нейтрино с Бруно Максимовичем только в 1970 году. Вообще, в течение многих лет осцилляциями нейтрино никто не интересовался, потому что физики твердо верили, что у нейтрино нет массы; а если массы нет, то и осцилляции невозможны. Наше сотрудничество с Бруно Максимовичем было связано с совсем другой проблемой. В это время появился препринт работы очень известного американского физика Фредерика Рейнеса, который впервые наблюдал нейтрино и впоследствии получил за эти исследования Нобелевскую премию. Он опубликовал весьма странную экспериментальную работу, в которой измерял рассеяние нейтрино на электронах. Сечение этого процесса у него оказалось в двести раз больше, чем предсказывалось теорией. Это вызвало недоумение и огромный интерес, в частности у Бруно Максимовича.
— Какова была его реакция?
— Он эту работу Рейнеса изучил и рассказал о ней на семинаре в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. Я был на этом семинаре и, когда он закончился, решил обсудить с Бруно Максимовичем вопрос о том, как могли появиться такие результаты. Тогда я был еще далек от изучения нейтрино, но, тем не менее, спросил у Бруно Максимовича, не может ли это быть результатом сильного взаимодействия между нейтрино. Вначале он особо не отреагировал, практически ничего не ответил. А на следующее утро позвонил и сказал: «Знаете, это очень интересная идея, давайте над этим работать». И мы начали работать.
— В чем заключалась ваша работа?
— Даже людям, далеким от нейтрино, было понятно, что мы ничего не знаем о взаимодействии нейтрино между собой. Взаимодействие нейтрино с протонами и электронами было известно — по крайней мере, теоретически. Мы начали думать, какие опыты позволили бы получить информацию о взаимодействии между нейтрино. Вскоре Рейнес нашел ошибку в своем эксперименте: оказалось, что довольно значительный гамма-фон давал электроны отдачи. Соответственно, результат Рейнеса исчез, но вопрос о взаимодействии между нейтрино — остался. И в течение двух лет мы с Бруно Максимовичем и моими студентами проверяли разные возможности. Из экспериментальных данных на тот момент можно было сделать заключение, что даже сильное взаимодействие между нейтрино не исключено. Опыты, которые мы предложили, были выполнены. Сейчас уже известно, что взаимодействие между нейтрино действительно слабое.
— Вы продолжали сотрудничать с Понтекорво и по другим направлениям?
— У нас еще не было совместных работ, но мы с ним оставались очень дружны. Он меня приглашал во всякие поездки. Понтекорво любил разные виды спорта, в частности охоту с подводным ружьем на рыб. В одной из таких поездок мы начали обсуждать — сначала в машине, а потом у костра — осцилляции нейтрино. Возникли всякие идеи. Потом, в 1975-м, мы начали вместе работать над осцилляциями нейтрино. В 1977-м мы написали первый обзор. Работ на эту тему тогда было мало — физики по-прежнему не верили в осцилляции нейтрино. Вплоть до 1989–1990 годов мы с Понтекорво довольно много работали — практически каждый день — над проблемой масс, смешивания и осцилляций нейтрино. Я часто приходил работать в его кабинет в Лаборатории ядерных проблем, и мы выпустили много совместных работ.
— Почему общий интерес к проблеме осцилляций нейтрино возник только на рубеже 1980-х годов?
— В начале 1980-х мы начали ставить специальные эксперименты по поиску осцилляций нейтрино. Я уже говорил, что значительный интерес к этой проблеме возник после опыта Рейнеса, который утверждал, что наблюдает осцилляции нейтрино. Впоследствии оказалось, что это был ошибочный эксперимент. Главный интерес к проблеме масс и осцилляций нейтрино возник в связи c теориями Великого объединения (Grand Unified Theories, GUT). (Тогда были очень модны теории, объединяющие слабые, электромагнитные и сильные взаимодействия.) В таких теориях, естественно, появляются массы нейтрино. Физики стали думать, что если увидеть эффекты массы нейтрино, то это будет свидетельствовать о правильности GUT. В 1970 году Реймонд Дейвис, самый большой американский энтузиаст исследования солнечных нейтрино, и его группа начали эксперимент, в котором они впервые наблюдали солнечные нейтрино и получили данные в пользу осцилляций нейтрино. В 2002 году за наблюдение солнечных нейтрино Дейвис получил Нобелевскую премию.
— Опыт Дейвиса был связан с предыдущими исследованиями Бруно Максимовича?
— Дейвис использовал радиохимический хлор-аргонный метод, который предложил Понтекорво в 1946 году. В его подземном эксперименте использовался большой детектор. Он наблюдал меньше нейтрино, чем предсказывала стандартная солнечная модель. Если всерьез воспринимать модель Солнца, то это кризис (его назвали Solar Neutrino Puzzle). Многие думали, однако, что «нехватка» солнечных нейтрино может быть связана с тем, что мы не до конца понимаем Солнце и не можем предсказать поток нейтрино от Солнца. Понтекорво результат Дейвиса воспринимал довольно серьезно и думал, что это эффект осцилляций нейтрино. Я его идею всячески поддерживал, и мы на эту тему написали статью. Потом оказалось, что это действительно так, но дело не только в осцилляции нейтрино. Главную роль играют эффекты когерентного рассеяния нейтрино в веществе Солнца, которые приводят к ослаблению потока солнечных нейтрино (так называемый эффект Михеева — Смирнова — Вольфенштейна).
Страницы автобиографии
—Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом.
— Я родился в 1928 году на Украине, в городе Жмеринка. Там я прожил год, потом мы еще некоторое время жили в другом месте на Украине, затем — в Белоруссии, а с десяти лет я живу в России.
—Кем были по профессии ваши родители?
— Мой отец был инженером, мама — бухгалтером. Большая часть их жизни пришлась на советские времена. Они были нормальные советские люди.
—Где вы жили во время войны?
— В начале войны мне было 13 лет. Мы тогда жили в городе Таганрог на Азовском море. Оттуда эвакуировались в Казахстан. Отец пошел в армию, а мы с мамой и сестрой остались в колхозе, где я один год работал. А потом мы переехали в Саратов, куда отца перевели из армии как специалиста — он работал на местных заводах, где производили военную технику.
— В 1946 году вы окончили среднюю школу в Саратове, поступили в МИФИ, с отличием окончили его в 1952 году. Вас коснулась кампания против космополитизма, которая разворачивалась в это время?
— К счастью, меня эта кампания почти не коснулась, мне повезло. Я делал диплом у профессора Исаака Яковлевича Померанчука. В городе Иваньково (позже его объединили с Дубной) создавался первый ускорительный центр. Из-за секретности его называли Гидротехнической лабораторией — недалеко была плотина с гидроэлектростанцией. Был построен первый ускоритель Лаборатории ядерных проблем — синхроциклотрон; его энергия была в то время 460 МэВ. Он был построен за два года, это был рекорд. Ускоритель был секретный, о нем в мире не было известно. Вокруг него выросла Лаборатория ядерных проблем, которую называли Площадкой. На ускорителе работали экспериментаторы и небольшая группа теоретиков.
— Как вы попали в Дубну?
— Лабораторией ядерных проблем руководил Михаил Григорьевич Мещеряков. Померанчук был руководителем ее теоретического отдела. В МИФИ он нам читал лекции. Как-то он остановился во время лекции и сказал следующее: «Знаете, в Советском Союзе создается большой ускорительный центр. Я вам не могу сказать, где именно (это секретно). Туда нужны теоретики. Кто из вас хочет попробовать попасть в этот центр, обратитесь ко мне». Нас в группе было тогда человек десять. В те годы было суровое понятие — московская прописка, и мне в этом смысле повезло — у нас в группе все были москвичи, с московской пропиской, они не очень хотели уезжать из Москвы. У меня тоже была московская прописка, но я не видел для себя другого выхода. Я подошел к Исааку Яковлевичу и сказал, что хотел бы поступить на работу в этот центр. Он ответил: не обещаю, но постараюсь. Я у него делал диплом, и он каким-то образом убедил Мещерякова принять меня на работу. Тогда лаборатория принадлежала так называемой лаборатории № 2, где разрабатывался атомный проект, — сегодня это Курчатовский институт. Мещеряков, по-видимому, должен был убедить Курчатова, и в 1952 году меня, сразу после окончания МИФИ, взяли на работу в якобы Гидротехническую лабораторию. Через четыре года, в 1956 году, в Дубне образовался ОИЯИ.
 В ЛТФ ОИЯИ (1966). Фото П. Зольникова
В ЛТФ ОИЯИ (1966). Фото П. Зольникова
— Вы помните момент создания института?
— Я очень хорошо это помню. На заседаниях я, конечно, не присутствовал. Тогда работал ускоритель Лаборатории ядерных проблем, а синхрофазотрон еще только строился. Было решено создать центр на базе этих двух ускорителей. Было также решено создать Лабораторию теоретической физики. Было две теоретические группы: одна в Лаборатории ядерных проблем; другая, которой заведовал академик Моисей Александрович Марков, — в Лаборатории физики высоких энергий. Когда создали ЛТФ, этих теоретиков решили взять в лабораторию, но с отбором. Директором ОИЯИ был назначен Дмитрий Иванович Блохинцев. Он собрал нас всех в административном корпусе, в кабинете директора, чтобы решить, кто перейдет в ОИЯИ. Каждый должен был ему рассказать, чем он занимается. Публикаций у нас особо не было — публиковаться долгое время не было разрешено. Дмитрий Иванович фактически принял на работу всех и затем спросил: а кого нам назначить директором? В нашей группе был теоретик Вадим Георгиевич Соловьёв, тогда аспирант Николая Николаевича Боголюбова, хорошо его знавший. Он предложил Дмитрию Ивановичу пригласить Боголюбова. На что Дмитрий Иванович ответил: наверное, Боголюбов не согласится, ведь он работает в Стекловском институте и в МГУ, он очень известный академик и, главным образом, математик. Однако в то же время Боголюбов очень интересовался физикой и внес в нее серьезный вклад. Вадим Георгиевич сказал: «Давайте я попробую убедить Боголюбова перейти в ОИЯИ». Николай Николаевич, действительно, согласился. Когда он перешел в Дубну, то пригласил в ЛТФ группу молодых людей, с которыми в то время работал: Ширкова, Логунова, Медведева, Поливанова, Бланка (он рано погиб в горах). Так создавалась Лаборатория теоретической физики.
— Все они переехали в Дубну?
— Нет, они сюда приезжали раз в неделю, в тот день, когда в лаборатории бывали семинары. Приезжали на машинах — электричек тогда еще не было. Через некоторое время Логунов стал заместителем директора и переехал в Дубну.
— Жизнь в Дубне тогда, наверное, была спартанская…
— Да, действительно, это была специальная жизнь. Добираться до Москвы было очень трудно. Вначале надо было доехать до Дмитрова, потом на так называемой кукушке (это был очень медленный поезд) —до Большой Волги. Оттуда до института пешком, автобусов тоже тогда не было (позже появился автобус до Дмитрова и обратно, на который нам давали какие-то пропуска). Магазинов было два. Один — продовольственный, возле административного корпуса, там, где сейчас «Пятерочка». А еще был товарный магазин, на площади Мира, там, где сейчас ювелирный магазин. В административном корпусе была очень дешевая столовая. Еще была гостиница, на улице Векслера, — там сейчас находится здание управления гостинично-ресторанного комплекса. Даже нитки-иголки в Дубне купить было невозможно, нужно было ехать в Москву… Жизнь действительно была спартанская.
— Период, когда институтом руководил Блохинцев, 1956–1965 годы, по атмосфере и общему настрою соответствовал духу оттепели?
— Дубна в это время была довольно открытым городом, здесь царила свободная атмосфера. «Службы» были, но они не так сильно о себе заявляли. И это, конечно, была заслуга Дмитрия Ивановича Блохинцева, а впоследствии Николая Николаевича Боголюбова. Большую роль играло и то обстоятельство, что в Дубне работали иностранцы. Чтобы пригласить в гости иностранного коллегу, я не нуждался ни в каком специальном разрешении. При тогдашней советской жизни это было нечто исключительное — в других местах такое было просто непредставимо. Западных физиков домой приглашать я не мог, а чехов, например, — пожалуйста. Мы жили на одной лестничной площадке с семьей Юры Паточки и были с ним и его женой Либой очень дружны. Вообще, у меня и моей жены в Чехии было много друзей. Мы были очень близки с Франтишеком Легаром, который работал с моей женой. Легар был в Америке и попал на распродажу военных палаток, спальных мешков и тому подобного. Когда мы собрались в поход, Франтишек всё это нам одолжил. Альтернатив тогда не было.
— В горы вы с ним ходили?
— Нет. В горные походы мы ходили с другими чехами. С Ярославом Цвахом, Иржи Страхотой, Павлом Экснером и другими. Иржи Страхота и его жена Мария до сих пор наши ближайшие друзья. Я был хорошо знаком также с Павлом Винтерницем, который сейчас живет в Канаде, в Монреале.
— Легар и Винтерниц после 1968 года эмигрировали. Вы не думали тогда над таким вариантом?
— Нет. Возможность, по-видимому, была: в 1970-е годы евреев из Советского Союза выпускали в Израиль. Но я тогда даже и не думал об эмиграции. Я абсолютно этого не хотел. У меня и моей семьи была нормальная жизнь, я любил и люблю Дубну, я много работал с Бруно Максимовичем. Мне очень повезло. Многие считают, что я был студентом или аспирантом Понтекорво. Но я был уже доктором наук, когда мы начали вместе работать. Мы работали фактически на равных, у нас были партнерские отношения. Он не был теоретиком, но у него была очень хорошая интуиция: он прекрасно понимал, что правильно, а что неверно. В физике это очень важно. И вообще, Бруно Максимович был очень глубокий человек и большой физик. Я с великим удовольствием работал с ним.
— Он чувствовал себя в Дубне как дома?
— Да, совершенно. Единственное, чего ему не хватало, — поездок в Италию. Его долго не выпускали за границу, наконец выпустили в 1976 году, после оттепели, но задолго до перестройки. Впервые он поехал на конференцию, посвященную семидесятилетию Эдуардо Амальди. Амальди был учеником Ферми, как и Понтекорво; они были членами его группы («парни с улицы Панисперна»), куда, кроме них, входили Эмилио Сегре, Франко Разетти и Оскар Д’Aгостино. Итальянцы очень хотели, чтобы Понтекорво присутствовал на конференции, посвященной семидесятилетию Амальди. В конце концов, преодолев большие трудности, Бруно Максимович поехал в Италию — в первый раз после переезда в СССР. И после этого ездил на родину уже каждый год.
— Какую роль играет для вас пребывание за границей?
— Я провожу много времени за границей, много работаю с коллегами из разных стран, участвую в многочисленных конференциях. В Праге я никогда подолгу не работал, хотя часто приезжаю туда на месяц-два и сотрудничаю с пражскими коллегами. В конце 1980-х моему сыну сделали очень неудачную операцию в Сочи, после которой он может передвигаться только на коляске. Сейчас он живет в Канаде. В 2006 году мы решили с ним воссоединиться. С тех пор я живу в Канаде. Каждый год приблизительно на месяц я приезжаю в Дубну.
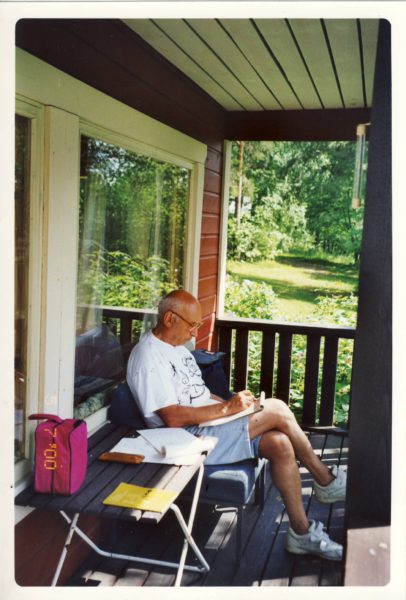
— Ваш юбилей, 90-летие, вы отметили в Праге и Дубне. Как это получилось?
— Вместе с Александром Ольшевским, Фёдором Шимковицем и другими коллегами из Чехии и Дубны мы каждые два года проводим Международную летнюю школу по физике нейтрино имени Б. М. Понтекорво. Прежде она проходила в Алуште, в Крыму — всем очень нравилось, там прекрасное место. Но после известных событий нам пришлось эту школу организовывать в других местах. Первый раз это было в Словакии, второй раз школа проводилась в Праге; тогда мне было 89 лет. На будущий год, в связи с моим юбилеем, Иван Штекл и Руперт Лейтнер предложили мне провести нейтринный коллоквиум в Праге. Я с радостью согласился и приехал в Прагу с семьей. Туда пригласили моих коллег и друзей из Италии, Германии и других стран — они выступили на коллоквиуме. Было очень приятно и хорошо. Потом я поехал отмечать юбилей в мою альма-матер — Дубну. Был организован нейтринный семинар в Доме ученых. Пришло много друзей и знакомых физиков из разных лабораторий. Были директор ОИЯИ Виктор Матвеев и директор Лаборатории теоретической физики Дмитрий Казаков. Я, конечно, был очень рад и польщен.
— Большое спасибо за интересный рассказ! Я желаю вам здоровья и энергии!






